Господи, свершилось! Теперь у нас не Москва с Московской областью, а столичный федеральный округ. Вот и модернизации – венец. В России ведь модернизация – это не вопрос о способе определения современности, нет. Это вопрос о сборке центра: что ещё можно считать центром, а что уже нет?
Наиболее наглядное решение вопроса о центре – перенос столицы. Модернизация оказывается равносильна переносу столицы, а перенос столицы – модернизации. Современная городская элита (московское боярство) – главный агент модернизации. Элита давно ждала, когда объявят о переносе столицы.
Перенос столицы – традиционный для России способ сделать превратить современность из хронополитической проблемы, связанной с образом и интенсивностью действия, в геополитическую. Ошибочно думать, что геополитика предполагает изменения слагаемых, которые не меняют сумму ("а вы, друзья, как не садитесь"). Геополитика – это калейдоскоп вариаций ментального устройства, символизируемых пространственными категориями и метафорами стихий ("болото", "тундра", "джунгли", "огонь", "лёд", "дерево" и проч.). То есть там, где хронополитика описывает системы действий, геополитика описывает формы мышления.
Проблема переноса столиц или, к примеру, видоизменения региональных границ есть ничто иное как способ вывести перемены из-под юрисдикции временных процессов и свести их к пространственной принадлежности. Больше того – это способ свести перемены к тому, что происходит в голове у "хозяев земли" – феодалов и неофеодалов (принимающих категории своего мышления за её закон-номос).
Отечественный экспириенс с переносом столиц начался не с Ленина и не с Петра, а, по крайней мере, с Андрея Боголюбского. В его переносе столицы Древней Руси из Киева во Владимир содержался универсалистский посыл: "Владимир" означал не просто "власть над миром", но обнаружение его центра. Пупа земли.
Перенос столицы не стоит рассматривать как геополитическую манипуляцию: смену суши на моря или, к примеру, степи на овраг. Перенос столицы – это радикальный способ переопределить своё и чужое, а, следовательно, отношения политики и войны. То, что было войной, становится политикой (но не исключается и обратный процесс).
Сдача столицы, понимаемой как сердце родного пространства, означает капитуляцию. Перенос столицы символизирует попытку капитуляции наоборот. Она влечёт за собой реучреждение всего социального порядка, а также новое понимание того, что считать порядком, а что хаосом.
Здесь нужно небольшое отступление об отношениях города и хаоса. Именно город создаёт представление о хаосе как угрозе неясного происхождения. Эта угроза берётся ниоткуда, её "ветром навеяло". Однако город не столько форпост, укрывающий от злых кочевых ветров, сколько корабль, паруса которого раздуты кочевыми ветрами. В режиме войны город защищает от чужаков, однако в мирное время город сам является боевой военной машиной, ибо постоянно движется, постоянно переопределяя своё и чужое.
В перспективе войн города кажутся крепостями, но в невидимой войне городов, которую они ведут в мирное время, неизменно присутствует что-то предательское. Это в первую очередь относится к столицам. Столица объединяет в себе два процесса: процесс комплектования пространства и процесс комплектования сообщества. Говоря иначе, столица представляет собой механизм оккупации и вербовки. Изменение столицы в любых её параметрах (имя, координаты, размер и проч.) означает, что этот механизм меняется.
Русская история в данном случае особенно примечательна. Начинается она не с обретения новой земли, мифологического подвига или божественного подарка в виде особого ремесла или инструмента. Русская история начинается с приглашения варягов воеводой Гостомыслом. Вопрос не стоит так, является это приглашение подлинным событием или зловредной сказкой. Важно, что таков базовый исторический миф. Суть этого мифа не в том, что любой режим оказывается в наших пределах оккупационным, а в том, что русская столица, понимаемая как сердце, бьющееся в национальном теле, изначально выражает принцип коллаборационизма. Русскую столицу нельзя сдать, ибо её сдача кажется всеобщим крахом, однако в действительности столица представляет собой плавильный тигль.
Поверхностный наблюдатель решит, что в этом тигле, подобно тиглям американских городов, создаётся сплав своего и чужого, однако это будет неполно и неточно. Правильнее сказать, что русская столица (начиная с Киева в Киевской Руси) воплощает в себе принцип отождествления изменений и проникновения чужого. В этом смысле "столичность" является не авангардом изменений, а их тормозом, потому, что изменения приобретают характер интервенций. Можно сказать и по-другому: российская столичная культура такова, что её представители готовы дать санкцию на любую интервенцию, коль скоро эта интервенция будет сулить будущие перемены.
Особенность русской столичности состоит в том, что номадические ветра рассматриваются её приверженцами как ветра перемен (и не важно, откуда дуют эти ветры – со стороны того что Гумилёв называл Великой Степью, или со стороны водной степи – современной Атлантики). При этом получается так, что перемены трактуются как пространственный дрейф, а единственным воплощением перемен оказываются различные формы капитуляций. Ошибочно думать, что открытость русских столиц "ветрам перемен" (особенно после монгольского периода) превращает эти столицы (и русские города вообще) в караван-сараи, где вместо дворцов раскинуты шапито, а дома заменяют кибитки.
Русская столица – караван-сарай только для заезжего гастролёра. Изнутри, в глазах "включённого наблюдателя", она смотрится совершенно иначе. Прежде всего, русская столица исключает политику, если понимать под ней поддержание дистанции между своим и чужим. Это в первую очередь относится к Москве, где исключение политики прямо пропорционально коммунальной войне между горожанами. Это война находит выражение в московской архитектуре, причём архитектурные наслоения и эклектика не столько "объективируют", сколько упорядочивают и организуют коммунальную войну. Несомненное доказательство войны – в том, что Москва является городом, архитектурно устроенным как самострой, чего не могла изменить даже сталинская реконструкция: дома лепятся друг к другу, как ласточкины гнёзда, территории осваиваются по методу захвата.
Проблема собственности – это проекция проблемы своего. Москва – знамение и причина кризиса коллективного "мы". Она не верит слезам, ни к кому не относится по-свойски, не отличается ничем, что было бы свойственно именно ей. Можно, конечно, говорить о московском классицизме или ампире, но и ампирные сооружения, и классицистские были созданы когда-то как новоделы – искусственно обустроенными островками Греции и Рима, знаками принадлежности мировой истории. Москва – город новоделов, датируемых разными временами и эпохами.
Это обстоятельство не является только лишь архитектурной проблемой. Оно – проблема более высокого порядка. Москва не просто столица, но выжимка русской столичности, мясорубка для человеков и связей между ними. Про Москву говорят, что она не резиновая. Ещё про неё говорят, что в ней слишком много домов, слишком много скамеек, слишком много бомжей, светофоров, таджиков, дворняг, киосков, проституток, фонарей, магазинов, машин. Слишком много прохожих, всего слишком много.
Однако хуже другое: Москва никого не принимает. Или иначе: она принимает всех лишь в той степени, в какой они остаются чужими. И даже если вы каким-то чудом окажитесь своими в Москве, она станет чужими для Ваших детей.
Приживается в ней тот, кто умеет отторгать других так же, как делает это она сама. В Москве никому и ничему не находится места. Не находить места в Москве – нормально. Здесь ни один клочок земли не организован по принципу обжитости и соседства.
Странно, но при этом Москва соответствует всем четырём принципам городского разнообразия, выделенным Джейн Джекобс: короткие улицы, многофункциональные районов, разновозрастные здания, плотное заселение, однако это не порождает искомого эффекта организованной сложности, объединяющей связи, привычки, образы. Москва ассоциируется с целым ворохом воспоминаний, напоминающий разросшийся семейный альбом, однако предательски не соответствует ни одному из них.
Москва воплощает не организованную сложность, а хорошо темперированное варварство с многочисленным сценами в виде магазинов, средств транспорта, кафе, где иллюзия цивилизованности создаётся только за тем, чтобы в один момент отступить и развеяться. Это город-мусоропровод, распластанный вширь и ввысь, где комфортнее чувствуют себя те, то живут стаями (например, тараканы и крысы).
Москва – тяжеловесна. Выражаясь на высокопарном языке мистических трактатов, её удел – падение.
В угоду тяжеловесности Москва обращает любые изменения в архитектурные излишества: нечто постоянно надстраивается, присобачивается, нависает. Архитектурная реорганизация совпадает обретением новых возможностей для московского боярства (бояре и есть, несмотря на происхождение, коренные московские жители). Главный принцип московской архитектуры – не позволить случиться тому, чтобы совпали роли статистических единиц ("люда", "людишек") и настоящих людей.
В современном мегаполисе скорость равна свободе, мегаполис устремлён ввысь, подчинён принципу эргономики, чтобы освободить место для человеческих сетей. В Москве скоростной режим – привилегия, так же, как и сетевые отношения, связи. Высотное строительство, олицетворяющее принцип власти, находится в оппозиции к низовым сетям. Общность и скорость даруется тем, кто наверху; для остальных – пробки, причём дорожные пробки в системе московского градоначалия – только метафора для пробок в отношении всех прочих путей и возможностей.
Московское боярство вот уже многие столетия черпает свою власть в контроле за импортом инноваций. Есть фазы, когда очередные заёмные инновации ограничиваются в пользу прежних, достаточно проверенных; есть фазы, когда наоборот – некогда импортированные инновации уступают место новомодному импорту. (Не будем забывать, что и облачение бояр, которое отменил Пётр, было в таких элементах, как лорум, оплечье и нарамник , было заимствовано из Византии).
Контроль за импортом инноваций означает, что столичное боярство признаёт только те перемены, которые несут на своих крыльях разнообразные интервенты.
При этом боярство трансформирует физическую интервенцию в символическую, которая сегодня обозначается словосочетанием "soft power". Эта функция боярства выражается в том, что бояре в постоянном режиме воспроизводят ситуацию смуты. С середины XX века та же самая ситуация стала называться "оттепелью". Что смута, что "оттепель" означают только одно: импорт всего нового и двойное подчинение боярства, которое играет роль "своего чужого" и, пользуясь словами Пушкина, "единственного европейца".
Во времена наполеоновского и гитлеровского нашествий Москва воспринималась как сердце России. Однако вне контекста войны очевидно, что нынешняя столица сохраняет статус сокровенного достояния лишь постольку, поскольку в ней нет ничего "своего" – того, что она сочла бы своей сокровенностью.
Как утверждает историк Франсуа Фюре, Наполеон хотел превратить Москву в передовую – на границе с Азией – часть империи Просвещения. Но не в этом ли качестве "передовой части" цивилизации защищал Москву Сталин от Гитлера? Гитлер использовал конструктивистские идеи "жилых блоков" для жилья, предназначавшегося коренному населению России ("расово неполноценные" служили материалом для экспериментов). Однако не те же ли самые идеи использовал Хрущёв в своих хрущёвках (исходя, правда, из мысли о том, что быть опытным материалом – привилегия передового советского народа)? Все без исключения интервенты России стремились к её углеводородным ресурсам. Но не это ли стремление без пыли и шума удовлетворено в брежневско-путинской концепции "энергетической сверхдержавы"? Список таких вопросов может быть огромен.
Статус "единственного европейца" является наследственным и достигается тем, что никого другого в европейцы не пускают. Тот же Пушкин вывел непреложное условие смуты: народ безмолвствует. Однако помимо этого возведённого в канон безмолвия есть и другое, не менее важное обстоятельство: смута означает невозможность понять, что происходит.
В ситуации смуты отсутствуют критерии изменений и категорий, позволяющие отделить ложные инновации от истинных. Понимая изменения как интервенцию, боярство любой эпохи русской истории само становится интервентом. Технологии "мягкой власти" означают, что интервенции осуществляются методом просвещения. Абсолютизм нового московского боярства – это просвещённый абсолютизм, двором которого выступает сетевое общество "юзеров".
Укрупнение московского региона и создание столичного федерального округа – это попытка решить проблему участия в современности методом создания внутреннего ("опричного") царства Просвещения. Столичный федеральный округ и есть такое опричное царство Люмьера. Российская Европа, территория цивилизации. Его роль (наряду с олимпийским Сочи) напоминает о роли в Советском Союзе республик Балтии. Очевидно, что создание нового округа только усилит диспропорцию регионов, спроецировав на их отношения модель дикого и неприличного расслоения, существующую в стране между богатыми и бедными.
При этом ясно, что столичный округ воспроизводит в рамках страны модель городской джентрификации.
Джентрификация означает такое изменение среды обитания, которое делает её удобной, разнообразной и модной. Благодаря джентрификации не просто повышается уровень комфорта, но возникает эффект второй жизни района (квартала, улицы), когда места проживания оказываются неотделимы от новых легенд о них и сами выступают темой для творчества. Чтобы это произошло, нужно выполнить одно немаловажное условие: джентрификация должна начинаться не с фешенебельной застройки и инвестиций (о которых в контексте СФО распространялся сегодня мер Собянин), а с приглашения трендсеттеров – деятелей искусства, медийщиков, учёных.
Трендсеттеры не просто обживают место, но связывают его теми идеями и смыслами, к которым оно прежде не имело никакого отношения. Им предоставляется право проживания в новом районе, если они действуют по принципу: "Ты живёшь в этом месте, потому, что превращаешь это место в миф". Приглашение трендсеттеров – не просто имиджевая акция, но способ демократизировать трансформацию городской инфраструктуры. Влить свежую кровь в слой городской элиты.
Именно с трендсеттеров и нужно начинать проект СФО – только так он имеет шансы не только окупить себя, но и порадовать. Нет никаких оснований думать, что новое место запустует. Однако хуже запустения – судьба очередной вотчины. Не будем забывать, что боярство думает только о тех переменах, которые могут упрочить его статус, а значит увеличить статусную ренту. Элита объединена принципом наследования. Между тем, вопрос стоит о том, можно ли сохранить этот принцип, если понимать модернизацию по-боярски, то есть считать, будто вкус и способность к творчеству передаются по наследству.
Модернизация по-боярски превращает культуру в условие и результат такого наследования. Это ведёт к негативному отбору. Если понимать под культурными ценностями мёртвые семена, трудно надеяться на то, что они прорастут. Помимо наследования должны заработать механизмы социализации, когда элита не просто включает в себя новых членов, но видоизменяется под влиянием позитивного отбора. Процесс постоянных микрореволюций в элитарной среде и есть то, что часто называют словом "демократия".
Источник:
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|






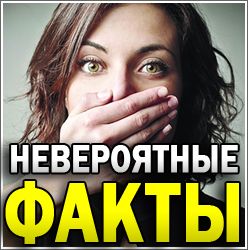
 . Все права защищены.
. Все права защищены.